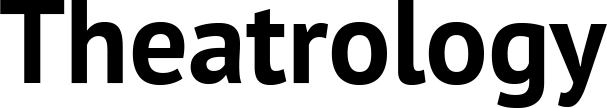Хроники пустого дома. Принцип неопределенности
Прошло 142 года, с тех пор как вышла «Алиса в Зазеркалье». За это время во многом поменялось представление о возможном для человечества или возможности представления для человека. Одним словом, когда ты используешь образ зазеркального мира, ты не выдвигаешься автоматически в авангард театрального мира, не становишься экспериментатором и новатором.
Оно и к лучшему. Образ Зазеркалья как некоего суверенного мира уложился достаточно глубоко в общее сознание человечества, стал неким фольклором, по-видимому, заполняя лакуну, появившуюся в результате масштабных изменений коллективного сознания и коллективного бессознательного на переломе девятнадцатого и двадцатого века. Я не стану изображать из себя специалиста по истории научного знания и философии, но хочу фиксировать ряд простых наблюдений.
Основным источником трудностей
в построении непротиворечивой основы знания является обращение понятий на самих
себя. Возможность такого обращения существует в любом естественном языке, она
неизбежна, является, по-видимому, следствием природы человеческого мышления,
включающего самое себя в круг феноменов, подлежащих рассмотрению. Неспроста
такой взгляд на мир называется рефлексия. Не только образ зеркала является
ключевым. За его содержимым признается объективное существование. Человек познает
мир, отражая его в себе вместе со своим знанием. То есть ваше отражение мира
есть воздействие на мир, причем воздействие это настолько принципиально, что
превосходит по своей универсальности и значимости законы Ньютона. Просто, как
иллюстрация, без претензий на открытие глубинных смыслов. Представьте, что вам
нужно вставить вместо точек числительное, делающее выражение истинным.
− «в русском
алфавите ... букв»
− «в этом
предложении ... букв
В первом случае
нет автоморфности, все просто: вставляешь «тридцать три» и выходи строиться.
Во втором случае
беда. Может так случиться, что не существует числительного, обращающего его в
истинное утверждение. Само числительное меняет длину предложения. В итоге:
предложение есть, буквы есть − сосчитать не можем.
Вернемся к
Зазеркалью. Если признается объективное существование зазеркального мира, то он
закономерен и познаваем. В нем действуют законы и модели, подобные используемым
для описания мира внешнего, хотя, конечно ,не совпадающие с ними. Если помните,
Алиса тоже сомневалась в том, что зазеркальное молоко можно пить, хотя само его
существование было для нее очевидным.
Если возможно одним умозрительным
актом запечатлеть пару «Мир − Его Отражение», то это и есть реализация принципа
доплительности: ты можешь описывать Мир или его Отражение, выбор за тобой. Результат
твоего описания распространяется на оба объекта. Иными словами: если что-то
должно произойти в зеркале, то оно неминуемо произойдет и в реальном мире.
Именно поэтому в театре, точнее, в ТЕАТРЕ (как феномене), должны действовать
законы, дуальные тем, которые описывают мир в современных физических моделях,
например, принцип неопределенности. Я не утверждаю, что их содержание как модели
аналогично квантовой механике. Зазеркальное молоко было совсем другой природы,
и его нельзя было пить, но оно с необходимостью было.
Маленькое отступление:
разностная природа времени
Если вы задумаетесь о
происхождении понятия «момент времени», то поймете, что сейчас оно используется
по инерции. Та картина, которую вы видите перед собой, совсем не синхронна. Объекты
на расстоянии метра более «свежие», чем те, что в десяти метрах, а Луна уже на
секунду устарела. То есть, глядя на самолет, пролетающий на фоне Луны, вы
наблюдаете нечто, размазанное по времени. Однако интервалы времени остаются
неизменными. За ту пару секунд, что самолет пролетал лунный диск, прошла пара
секунд и на Луне, и в самолете, и в непосредственной близости к вам. Поэтому
понятие «дельта» t (не знаю, как поставить греческую букву дельта в ФБ) вполне
разумно. Это промежуток, который отделяет вас от события или одно событие от
другого.
Аналогом соотношения неопределенности в театре могло бы быть выражение, связывающее рассматриваемый промежуток времени (время восприятия) и определенность высказывания (то есть в некотором смысле содержание). Чем короче промежуток восприятия, тем больше, вообще говоря, неопределенность высказывания, хотя она, конечно, зависит от конкретного спектакля и конкретного фрагмента. Поэтому выражение дается в виде неравенства, указывая нижнюю возможную границу точности высказывания. Может быть, даже можно говорить о неком кванте восприятия в театре, представляющем наименьшую возможную порцию содержательного восприятия.