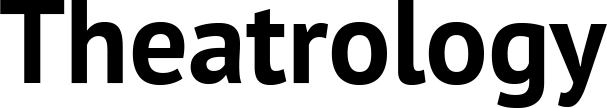Хроники пустого дома. Иов.
26.11.13
Вопрос о том, как устроен прототип спектакля, который
впоследствии, обрастая неизбежными житейскими деталями, как корабль ракушками и
морской травой, доходит до зрителя. Я пробовал читать актерам короткие отрывки,
прозу и стихи, из
числа тех, которые выходят за рамки стиля, за пределы оценок «хорошо» и «плохо»,
когда сам текст без всякой актерской анимации вызывает мурашки. И, закончив,
сразу просил воспроизвести. Получалась надпись на заборе, хуже, чем ничего. В
любом спектакле, даже самом скверном, есть идеальный прототип, эйдос спектакля,
и он всегда велик. Просто в хороших спектаклях воплощение лучше, чем в плохих.
Трудно выбраться за пределы
устоявшейся картины театра с актерами-режиссерами- театрами-зрителями-
критиками-репертуарами- рейтингами и т.д. Трудно очистить сознание от обиходных
ритуалов и сконцентрироваться на объектах, не принадлежащих миру людей. Глазом
моргнуть не успеешь, а мысли уже заняты чем-то практическим: что нужно сделать
для спектакля, как ответить тому или иному болтуну, как организовать поездку
или выступление. Как почувствовать, где ты ищешь существующее, но закрытое для
глаза подводное течение, а где стараешься сделать выигрышный ход, зная, что та
или иная корючка будет хорошо смотреться? Петр, когда просил Иисуса не идти в
Иерусалим, был уверен, что им движет лишь любовь, и только после того как
услышал в ответ: «Отойди от меня, сатана», − почувствовал некую чужеродность в
своих губах, почувствовал, что кто-то еще был с ним в этот момент и,
ужаснувшись, бежал. Как отделить тщеславие, задетое самолюбие и гордость своими
знаниями от стремления сделать шаг за пределы своих возможностей? Как отделить
множество образов, собранных памятью и любопытством, от подлинных структур
театра, проявляющихся в твоей работе? Нет никакого рецепта. Не может быть
никакого рецепта. Потому что рецепт уничтожил бы твою личную ответственность.
Рецепт уничтожил бы опасность существования − единственную гарантию того, что
твоя работа действительно существует в этой самой эфемерной форме человеческой
реализации.
Мне всегда недоставало в
театре привкуса реальности, потому что вкуса реальности ткань театра просто не
выдержит. Ее разрушали сотни неорганических условностей: отвратительные
актерские голоса, неостановимые штампы динамики речи и динамики движения,
штампы изобразительной композиции мизансцен, дрянное освещение, более-менее
ничтожная музыка. В большинстве случаев и актеры, и постановщики не чувствуют
принципиальной важности начала и финала любого фрагмента по сравнению со всем
материалом, заключенным между этими точками. Именно поэтому театр существует от
премьеры к премьере, от скандала к скандалу. Какой-то сплошной бенефис.
Я боюсь высоты, поэтому я пробовал встать на край крыши, чтобы впустить этот страх в себя на правах хозяина. Я боюсь смерти, поэтому ходил в морг, чтобы вся эта страшная требуха, которую мы постоянно носим в себе, стала фактом моей жизни. Жестокость, которую я по большей части встречаю в спектаклях, имеет в основе какую-то отвратительную смакующую черту. На первый план выходит эстетическая оценка: либо стремление покрасоваться в деталях, либо шокировать в деталях. Обе эти стороны на самом деле представляют собой одно, как в садомазохистском комплексе.
Жестокость, которая органично
присуща театру (а ему во всех его формах присуща жестокость), совсем иная. Театр
жесток, как абсолютное зеркало, ничего не скрывая и даже приближая и ставя во
главу угла те стороны существования, которые человек стремится от себя
отодвинуть. В этом зеркале человек видит себя в мире, который не создан для
него. Это не гостиница «все включено», а абсолютна чужая ему среда, в которой
он старательно прогрызает ходы. В этом зеркале человек видит свою смерть,
которая в его мире отсутствует. В этом зеркале может отразиться разговор
человека с Богом по-настоящему, как факт жизни, а не журналистская креативная
идея.
Человек, как бы он себя ни
жалел, привык относиться к своему здоровью, к своему телу, как к неотъемлемому
праву. Любое, даже незначительное неудобство вызывает сильную эмоциональную
реакцию. Что Бог может сказать такому человеку? Ничего. Живи. Встретимся − разберемся.
Им не о чем говорить.
Чтобы прозвучали слова: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи,
если знаешь», −
нужно, чтобы у
человека в глазах была настоящая близость к пределу. Кто из актеров, кого вы
видели в Москве, может стать Иовом? Возьмите список Топ-10 актеров Москвы,
который дрейфует по ФБ и СМИ, как список самых красивых мальчиков в классе с
парты на парту. Если ты не можешь услышать хотя бы эхом: «Ты хочешь
ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя?» − что тебе делать
на сцене?
Я второй раз публикую эту
фотографию, потому что эта уже другая фотография. В той не было для меня ничего,
кроме моих человеческих эмоций. Ими нельзя поделиться, так что написано было
пустое. В этой реализовалась Книга Иова в большей степени, чем все мои попытки
читать и думать о ней. Если ты не о жестокости мира к человеку, превосходящей
все его представления о возможном, его уязвимости и привязанности к
собственному телу, ставишь спектакль, то зачем ты его ставишь? Съешь пирожное,
займись сексом, сходи в баню, займись шопингом, мало ли способов доставить себе
удовольствие.
Эта фотография ближе к эйдосу
спектакля, чем все, что я видел.
По многом времени сказала ему жена его: доколе ты будешь терпеть? Вот, подожду еще немного в надежде спасения моего. Ибо погибли с земли память твоя, сыновья и дочери, болезни чрева моего и труды, которыми напрасно трудилась. Сам ты сидишь в смраде червей, проводя ночь без покрова, а я скитаюсь и служу, перехожу с места на место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет солнце, чтобы успокоиться от трудов моих и болезней, которые ныне удручают меня. Похули Бога и умри.